Илья Барабаш
Не было ли у вас,
дорогой читатель, такого — смотрите вы, например, на своих соседей
и говорите: «Чтоб я так жил!» или наоборот: «Ну разве это жизнь!»?
Уж мы-то знаем, как надо жить по-настоящему! Вот и Гончаров в своем
романе «Обломов» о том же пишет.
 |
| И. А. Гончаров |
А ведь
прекрасный писатель Иван Александрович! Красивый, легкий слог, живые
и яркие образы. Читая, невольно ловишь себя на ощущении, что
ты и не читатель вовсе, а соучастник событий: и влюбляешься,
и негодуешь, и радуешься, и печалишься, переживаешь вместе с героями.
Жаль, что в свое время, в школе, мы изучали только один его роман,
да и тот «в нужном идеологическом ключе». Теперь хочется без нужного
ключа — взглянуть шире и глубже.
Вот признайтесь-ка, дорогой
читатель, что имя Обломова вызывает у вас стойкую ассоциацию
с обломовщиной, неизменным «свойством российской жизни». Понятно, нам
это говорили еще на уроках литературы. Но мне кажется, роман Гончарова
вовсе не памфлет против этой самой обломовщины, как и не гимн «чистой
душе подлинно русского человека».
Писатель задает очень серьезный
вопрос: а в чем она, жизнь человека, что значит жить? И еще об одном
этот роман — о счастье, которое многие ищут, да не многие находят.
И хотя главных героев явно двое, своего рода протагонист и антагонист:
Илья Ильич Обломов и Андрей Иванович Штольц, — перед нами проходит
длинная череда персонажей, от безликого не то Алексеева,
не то Васильева до Агафьи Матвеевны. Каждый из них — свой ответ
на вопрос о жизни и счастье: свой особый образ жизни, свои цели, свои
ценности, как будто живут эти люди в разных мирах, почти
не пересекающихся. Разные модели жизни. Неслучайно Гончаров проводит
их перед нами в начале романа, хотя почти никого из них мы потом
не увидим: к каждому из них Обломов обращает один и тот же вопрос.
«В десять
мест в один день — несчастный! — думал Обломов. — И это жизнь! Где же
тут человек? На что он раздробляется и рассыпается?»
Или
к другому: «Увяз, любезный друг, по уши увяз... И слеп, и глух, и нем
для всего остального в мире. А выйдет в люди, будет со временем
ворочать делами и чинов нахватает... У нас это называется тоже
карьерой! А как мало тут человека-то нужно: ума его, воли, чувства —
зачем это? Роскошь! И проживет свой век, и не пошевелится в нем многое,
многое... А между тем работает с двенадцати до пяти в канцелярии,
с восьми до двенадцати дома — несчастный!»
Или еще: «Да писать-то
все, тратить мысль, душу свою на мелочи, менять убеждения, торговать
умом и воображением, насиловать свою натуру, волноваться, кипеть,
гореть, не знать покоя и все куда-то двигаться... И все писать, все
писать, как колесо, как машина: пиши завтра, послезавтра; праздник
придет, лето настанет — а он все пиши? Когда же остановиться
и отдохнуть? Несчастный!»
Да вправду, это ли жизнь? И стоит ли
она того, чтобы жить? Чем она лучше той, что у Ильи Ильича? А ведь это,
так сказать, типажи — люди, каких много, то есть мы сами. И именно
им, то есть нам, кажется, что Обломов живет не так, как следует. И для
них, то есть для нас, его жизнь — обломовщина. Да полноте, господа! Вот
и сам автор устами Штольца объясняет, что и их жизнь обломовщина,
деревенская ли, петербургская ли, всё одно — обломовщина.
А тогда
как же жить? Неужто как Штольц? Вот он, подлинно российский спор —
Обломов или Штольц... Голосуем? Ну а вы, уважаемый Андрей Иванович?
Нет ли и в вашей жизни обломовщины? Да, для вас: «труд — образ,
содержание, стихия и цель жизни». Без сомнения, труд — правда жизни,
да только вся ли правда?
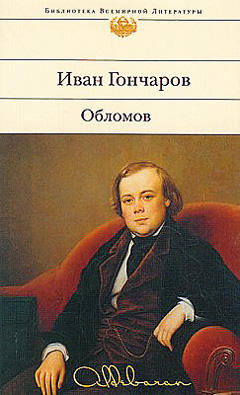 |
| И. А. Гончаров «Обломов» |
Будь
так, роман, мне кажется, слишком упростил и «уплощил» бы жизнь. Но есть
в нем еще один удивительный герой — Ольга Сергеевна Ильинская,
в которую влюбляется сначала Обломов, а потом и Штольц. Она воплощает
то, чего не хватает им обоим. И я бы взял на себя смелость назвать
именно ее если не главным, то центральным персонажем романа. Благодаря
ей что-то начинает пробуждаться в Обломове, благодаря ей меняется
самоуверенный и самодостаточный Штольц (уж такого он от себя
не ожидал). В ней есть нечто выходящее за пределы обыденности.
Ее вопрос звучит из самой глубины души, это загадочная тоска — далекое
предвестие грядущих «горя и труда», остающаяся в романе без ответа.
Даже всех поучающий Штольц чересчур рационален, чтобы дать его.
Скорее бы, наверное, ответил Обломов, поверни он иначе кормило своей
судьбы. Было в нем что-то очень созвучное этому вопросу Ольги — очень
глубокое и чистое, но так и не проснувшееся — как огонь, который,
по признанию самого Ильи Ильича, слишком рано стал гаснуть... Разница
лишь в том, что Обломов жаловался, дескать, «жизнь трогает», а Ольгу
«трогает» ее собственная душа. А может, только в этом и есть
единственный путь к жизни не по-обломовски?
Помните вопросы,
с которых начинался роман: в чем же жизнь? Что в ней нужно для счастья?
Они звучат к финалу в словах Ольги: «Мне жизнь покажется... как будто
не все в ней есть». Будто снова Гончаров ставит вопрос:
а действительно ли в этом вся жизнь человека? И хотя Штольц пытается
успокоить и объяснить Ольге ее тревогу (слова его, кстати, звучат
совсем не в его стиле), ответа он не дает и даже не ищет.
В удивительное,
загадочное время жил Гончаров, необычное в судьбе России. Время
распутий, вопросов, которые с особой силой звучат и в гоголевских
«Мертвых душах», и в лермонтовском «Герое нашего времени»,
и в «Обломове», в книгах Чернышевского, Тургенева и многих других.
Что-то очень важное происходило тогда, будто начинала рождаться новая
судьба России, да так еще и не родилась.
С той поры минуло более
полутора сотен лет, а вопросы эти все не решены. Нам никуда не уйти
от них. Снова они мучают и тревожат. Снова в жизни не все как будто
есть... И хотя мы никогда не найдем ответа, возможно, сама попытка
изменит нас и нашу жизнь.














