Татьяна Чамова
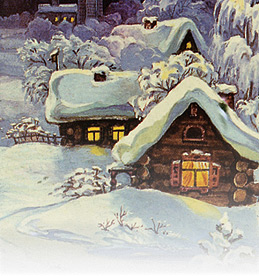 |
новогодних открыток я больше люблю те, на которых изображена утопающая
в снегу избушка с вьющимся из трубы дымком. Я всматриваюсь
в нарисованное, горящее ярким светом окошко... и попадаю в бабушкин
дом, наполненный самым уютным на свете уютом, самым теплым на свете
теплом, самой нежной на свете любовью, какие бывают только в детстве.
Зимнее утро. За белыми занавесками постепенно светлеют окна. Еще витая
в утренних снах, я слышу: скрипнула дверь. Дохнуло свежестью. Тихие
бабушкины шаги, стук дров, сваленных у печки. И тишина, та особенная
тишина, в которой происходит что-то очень важное. Я жду... Вот
наконец-то послышался такой знакомый звук наступающего дня — веселый
треск разгорающихся поленьев! Дом наполняется теплом, запахом горячей
смолы и дымка. Мерцающие блики от первых язычков огня уже бегают
наперегонки по стенам и потолку — это проснулась печка.
Русская
печь... Никакие музеи и никакие рассказы не могут передать того родного
и глубокого чувства дома, которое пробуждается в душе, когда
разгорается огонь в печи. Ведь для русских людей она всегда была
символом очага, семьи, любимым персонажем сказок. Без печи нет избы.
Да и в самом древнем слове изба заложено то священнодействие, которое
совершается у очага: оно образовалось от санскритского тап, «жар»,
«тепло», «топиться», через старинные формы истба, истопка, истопник,
истопить.
Сложить хорошую печь для дома было делом
ответственным. Хорошие печники, как и плотники, были народом непростым.
Если хозяева не нравились, они могли сложить печь так, что, как бы
жарко ее ни натапливали, хлеба в ней не выпекались, либо была она
угарная или жаркая да жадная, требующая много дров. Кирпич для печи
делали особенный, из специальной глины, как сказали бы сейчас,
экологически чистый; соединяли кирпичи тоже глиняным раствором.
Настоящая русская печь должна быть большой, красивой и миловидной,
с карнизами и печурками, чтоб гляделась в избе как невеста, — так
говорили печники.
 |
в бабушкином доме казалась мне живым существом, доброй, теплой
и веселой хозяйкой, похожей на бабушку и маму. У нее были глаза —
небольшие углубления, где сушили рукавицы, и большой улыбающийся рот —
устье, которое закрывали железной заслонкой, когда печь топили.
А за устьем находилась таинственная обитель Огня — большой «зал»,
который имел под (кирпичный пол) и высокий свод. Печь была настолько
велика, что внутри нее мог поместиться человек. В середине «зала»
складывали крест-накрест поленья, как для костра, и, открыв заслонку
трубы, зажигали огонь, приговаривая: «Святой огонушек, дайся нам!» Была
примета: если, зажигая огонь, суетишься, оглядываешься, то за нарушение
должного благоговения пламя выйдет из печи и зажжет избу. И уж совсем
недопустимо было ругаться при огне, бросать в него мусор, грязь. Очаг
требовал от людей целомудрия. Человек, знавший за собой вину, уже
не мог приближаться к родному очагу, пока не совершит искупительного
обряда.
За подом печи, на котором разводился огонь, тщательно
ухаживали, выметая его особым чистым веником или тряпочкой. С помощью
ухватов вокруг огня на под ставили чугунки с кашей, картошкой, щами.
Пока печь топилась, готовилась еда. Хлеба или пироги пекли уже после
того, как прогорят дрова. Из печки вынимали все чугунки и выгребали все
угли на загнетку — пространство перед устьем. После того как под
выметали, на него с помощью деревянных лопат сажали хлеба. Устье плотно
закрывали заслонкой, и печь начинала свое таинство.
Удивительная,
особенная тишина царила в доме, когда его постепенно наполнял душистый
аромат горячего хлеба, а вместе с ним тепло — и еще что-то, чего
не объяснишь словами, что-то вечное и надежное, то, о чем твоя душа
знала всегда. Лица людей в доме казались еще роднее и ближе, их глаза
начинали светиться любовью и теплом, голоса становились тихими
и ласковыми. В такие минуты бабушка обычно рассказывала о давних
временах, о своей жизни в родительском доме, все вспоминали случаи,
когда удавались самые лучшие пироги. По каким-то неуловимым,
таинственным признакам определялось, что они готовы. Тогда открывали
заслонку и доставали румяные, жаркие, ароматные пироги!
Их рассматривали, как новорожденное дитя, дивились и радовались
пышности и пригожести. Когда пироги ставили в печь, всегда загадывали
на то, как они поднимутся: если высоко, значит, хорошо все будет
в семье, будет удача и лад.
 |
сказку об Иванушке, которого Баба Яга на лопате отправляла в печь?
Оказывается, был на Руси такой обычай, так лечили больных детей:
ребенка сажали на лопату и три раза заносили в печь (конечно, не прямо
в огонь). Это называлось «перепекать» младенца, после этого он считался
заново рожденным. Печь сравнивали с материнским лоном. Об удачливом
и счастливом человеке говорили, что он в печи родился.
Семья
и огонь очага были связаны едиными узами, одним родством, одним
жизненным началом. Когда в доме рождался ребенок или когда умирал
кто-то, открывали заслонку печной трубы, веря, что именно через печную
трубу приходят и уходят души людей. В свадебном обряде, когда
создавалась новая семья, отец невесты трижды обводил ее вокруг родной
печи, а в доме будущего мужа молодой хозяйке положено было, сидя
на лавке у очага, съесть отломленный кусок хлеба, вступив тем самым под
покровительство духов дома своего мужа.
Печь — это душа дома,
святыня и алтарь любви. Пока в ней теплится огонь, пока исходит от нее
живительное тепло, есть семья, продолжается жизнь. Зажигая огонь
в печи, человек каждый раз совершал великое таинство — заключал
символический брак между божественным огнем, завещанным предками,
и матерью-печью. Эта великая любовь согревала душу и тело, лечила лучше
любых лекарств и защищала надежнее любых замков, помогала человеку
с рождения до смерти.
Все, что есть в доме, создано любовью
и держится на любви. Самые простые предметы: лавки, стол, вышитые
полотенца из приданого хозяйки, пучки летних трав на стене, каша
в чугунке, колодезная вода в рукомойнике — все несет в себе эту частицу
тепла, все живое, все пахнет домом.
 |
гостеприимный дом называли хлебосольным, в таком доме на столе всегда
стоял покрытый полотенцем хлеб и рядом солонка. Русская печь имела
прямое отношение к этому обычаю. Считалось, что человек, вступивший под
домашний кров, попадает под защиту и покровительство богов домашнего
очага. Его усаживали на почетном месте на лавке у печки или в красном
углу под иконами, кормили всем лучшим, что есть в доме. «Кто сидел
на печи, тот уже не гость, а свой». Плодородие и приход гостя
определяли по одной и той же примете: если из затопленной печи вдруг
посыпались искры или выскочили горячие угольки — жди гостей! Не принять
гостя означало нарушить святыню Огня, покровителя дома. Известный
собиратель русских сказок и исследователь традиций А. Н. Афанасьев
писал: «В народе существует убеждение, что странник, вкусивший нашего
хлеба-соли, уже не может питать к нам неприязненных чувств,
а становится как бы родственным нам человеком: „хлеб-соль не бранится“,
„хлеб-соль не пропустит зло!“. Верят, что вместе со странником является
сам Господь испытывать мирское милосердие. Говорят: „гость в дом — Бог
в дом“ и „не гоните Бога в лес, коли в хату залез“, то есть не прогоняй
гостя». Если тебе дан дар огня в очаге, ты должен передать его тепло
всем, кто в этом нуждается.
Печь уходит в песни, предания,
в сказки и легенды. Мы прощаемся с ней, но остается человек и его душа,
остается потребность зажигать и хранить огонь, тепло души, родного
дома, чтобы не прерывалась связь, чтобы жила любовь...














