Мария и Дмитрий Соловьевы
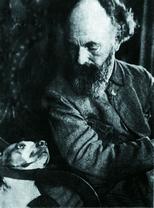 |
| М. М. Пришвин с собакой Ладой. Конец 1930-х. «Люблю я эту собаку, у нее такие прекрасные глаза… Быть может, никого у меня и нет, кроме Лады…» |
По-разному
приходят люди к природе. По-разному настраивают на нее голос своей
души. Кто-то раньше, кто-то позже. Вот и Михаил Михайлович Пришвин не
сразу певцом природы стал, хотя убежал еще из гимназии своей в Ельце со
товарищи в неведомые края. Да вернули их быстро. А Пришвина отчислили.
Не получилось у него первое путешествие.
Но потом уже, после
университета в Лейпциге; после путешествий по Европе, где набирался он
ума-разума и искал, искал чего-то в разных кружках и семинарах, на
концертах и в музеях; после работы по специальности агрономом, тоже
ведь с природой связанной, — появилась у него потребность поменять
что-то в жизни своей, миру что-то сказать. Вот и пустился он в
путешествие по Олонецкому краю, что между Онегой и Белым морем. И
появилась вскоре книжка «В краю непуганых птиц», да такая, что один
ученый, всю жизнь изучавший пернатых в том краю, сказал, что Пришвин
постигал их жизнь сердцем. А Зинаида Гиппиус назвала Михаила
Михайловича «легконогим и ясным странником с глазами вместо сердца».
Но
не может человек просто так взять и написать что-то такое. Вот
захотеть, сесть и написать! Должна у него в душе звучать мелодия и
толкать на подвиги. Ведь «…у людей, как у деревьев: иногда у сильного
человека от боли душевной рождается поэзия, как у деревьев смола». Была
такая песня в душе у Пришвина. Влюбился он в Париже. И не женился.
Отказался от этой мысли. И возлюбленная его на всю жизнь осталась
Невестой, образом вечной молодости, женственности, красоты и любви.
И
о чем бы ни писал он: о птицах или о Китеж-граде, о степи киргизской
или о болотах среднерусских, — всегда писал именно о любви. «Животным,
от букашки до человека, самая близкая стихия — это любовь, а растениям
— вода: они жаждут ее, и она к ним приходит с земли и с неба, как у нас
бывает любовь земная и небесная…»
И пусть считают его
писателем-этнографом, натуралистом, географом… Он таковым не был. Он
был искателем. Пусть и не понятым современниками и более именитыми в
10-е годы прошлого столетия соратниками по перу.
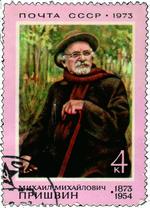 |
Он
был вхож в Петербургское философско-религиозное общество, был у Иванова
на Башне. И снисходительно относились к «молодому» писателю, хотя начал
он писать уже за 30 (в 1905 году вышла первая книга). Но это не мешало
ему. Наоборот, подхлестывало к поиску формы выражения того, что больше
всего он хотел петь, — Любви.
Но как долог был его путь! И война
помешала, и революции, и смутное время гражданской войны, когда все
были поставлены перед выбором: с кем ты? Кто выбрал Родину, кто
служение ей вдали…
В эти годы Пришвин лишился всего своего
наследства, чудом остался жив и едва спас свое семейство от гибели… И
был вынужден работать. Но не просто так, а шкрабом. Это — революционный
новояз. Сокращение от «школьный работник». Но мало было Пришвину — он
пытался спасти хоть что-нибудь ценное для культуры: хоть предмет
мебели, хоть книгу, хоть картину. И все равно: перед взором мысленным —
Она, Невеста. Тоска по ней и служение ей заставляли двигаться дальше и
искать, искать, как не выжить — нет! — но как сохранить и передать
культурные ценности дальнейшим поколениям. И добился-таки Пришвин
«лестной» оценки Троцкого для своей повести «Мирская чаша»: «…обладает
несомненными художественными достоинствами, но полностью
контрреволюционная». И хоть не любил он большевиков, а видел
единственную в них силу, способную остановить разнузданность и разгул
невежества и не только сохранить культуру Родины, но и преумножить ее.
И послушал совета своего одноклассника, Луначарского, с которым всегда
был в дружеских отношениях, — пошел служить новой России писателем.
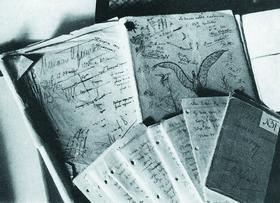 |
| Записные книжки М. М. Пришвина |
Тяжко
было выжить в гнетущей атмосфере трудных 30-х. Но вела его Любовь. Его
Невеста, его Фацелия. Этот небесно-синий цветок медоноса он взял как
символ любви своей, как воспоминание о будущем, о встрече…
По
какому-то наитию написан был «Жень-Шень» — песня о любви. «Жень-Шень»,
корень-человек, корень жизни. Это она, Любовь, движущая сила, корень
жизни!
Но она не приходит просто так. Даже если тебе показали
однажды, что она есть, где она, все равно — ты сам должен будешь найти
ее, когда она вырастет и станет самостоятельным, огромным, реальным
чувством. Нет, просто реальностью! Или, вернее сказать, самой жизнью.
Это и есть смысл жизни — поиск любви, мечты, деятельное движение
навстречу ей через все препоны, будь они в прошлом или в настоящем. Это
— мечта, и она достижима, главное — следовать своему назначению. «Он
показал на сердце, и стало понятно, что в поисках корня жизни надо идти
с чистой совестью и никогда не оглядываться назад, в ту сторону, где
уже все измято и растоптано». Нет неудач на этом пути, корень жизни —
достижим. «…Есть сроки жизни, не зависимые от тебя лично; как ни бейся,
как ни будь талантлив и умен, — пока не создались условия, пока не
пришел срок, все лучшее будет висеть в воздухе мечтой или утопией.
Только я чувствую, я знаю одно, что мой корень Жень-Шень где-то растет,
и я своего срока дождусь».
 |
| Ляля в девять лет |
Книга
эта принесла ему мировую славу. «Пришвин, во все беды и невзгоды не
покидавший Россию, первый писатель России. И как странно звучит сейчас
этот голос из России, напоминая человеку с его горем и остервенением,
что есть Божий мир, с цветами и звездами, и что недаром звери, когда-то
тесно жившие с человеком, отпугнулись и боятся человека, но что есть
еще в мире и простота, детскость и доверчивость — жив еще человек», —
писал в эмиграции Алексей Михайлович Ремизов.
Нет, не был Пришвин
писателем-географом или этнографом. Его размышления, итоги дней,
недель, записанные во время прогулок мысли, обдуманные, обработанные и
ограненные, ложились на страницы дневника, главного труда его жизни.
Он
начал вести его с тех самых пор, как решил стать писателем, и вел с
одним перерывом в неделю всю жизнь ежедневно. Дневники эти не видел в
те времена почти никто, да и не показывались они никому. Каждый день
Михаил Михайлович работал над дневником ранним-ранним утром, когда
солнце еще только собиралось подсветить горизонт…
Недельный
перерыв в летописи жизни Михаила Михайловича был связан с главной
встречей, которую готовила ему Судьба, — встречей с Единственной. Она
не произошла случайно, не стала неожиданным подарком, а была заслужена
и выстрадана. Невеста его, любовь небесная в ее земном воплощении,
пробудила первое сильное чувство, давшее толчок всему его творчеству.
Чувство к одному человеку пробудило внимание ко всему живому, открыло
мир в его удивительном единстве и многообразии. И расширилось до
понимания сокровенной жизни Природы. В стремлении ростка к небу, в
рассветах и закатах, в лесной тишине, на самом деле наполненной звуками
и голосами, он слышал и видел свою возлюбленную, а вернее, прикасался к
самой Любви. Рассказать о распускающейся ветке черемухи как о великом
пробуждении, возрождении жизни, расширить конкретный, зримый образ до
философского обобщения, осознания, переосмысления — в этом весь
Пришвин, его искусство, его песня, его Любовь, его корень жизни.
«Я
сознательно работаю и освобождаюсь от своего плена. Победа моя не в
том, что я зализал свою рану, а в том, что воспользовался этой болью и
написал и, мало того, прочитал и тем объяснился.
 |
| Миша Пришвин в восемь лет |
—
Вот, мол, какая моя любовь, я, мол, не для себя только и не для вас — я
для всех люблю. Такая победа — есть победа над самим собой.
В
этом опыте я, как в зеркале, увидал всю свою жизнь, как из боли своей
сделал радость для всех. Я увидал весь свой путь к свободе от себя, к
выходу из себя, утверждению прекрасного вне себя.
Но, позвольте,
разве во всей-то природе не к тому же самому приводит любовь, чтобы
выйти из себя, то есть родить, значит, начать что-то новое в мире?»
Зима
40-го года. Пришвину уже 67. Писательская судьба его уже спокойна и
обеспечена. Но ему мучительно не хватает кого-то, кто бы разделил с ним
все и понял его до конца, кому можно было бы доверять и доверяться.
Он уже почти перестал надеяться…
В
новогоднюю ночь, когда часы били полночь, он написал на заветном
листочке одно-единственное слово: «Приди!» (Этот листочек надо было
успеть сжечь, тогда желание непременно исполнится, — была в семье такая
традиция.) «Приди!» Призыв. Сейчас или уже никогда. Хотел поставить
крест на своей мечте, но в последний миг передумал и все же написал:
приди!
«Вся моя поэзия была как призыв: приди, приди! И вот она
пришла, та самая, какую я знаю, лучше той, прошлой женщины с какой-то
неведомой планеты (Невесты). Так зачем же теперь-то мне обращаться к
пустыне и взывать оттуда на помощь поэзию: она со мной теперь, поэзия,
я достиг своего…»
Она пришла. Появилась по приглашению для работы
над его архивом, дневниками. Валерия Дмитриевна Лебедева, в девичестве
Лиорко, человек непростой и тоже удивительной судьбы. В юности, так же
как и Пришвин, она встретила свою первую сильную, настоящую любовь.
Высокое духовное единство и подвижничество были в ней основной нотой.
Однако Олег Поль — так звали возлюбленного Валерии Дмитриевны — выбрал
религиозный путь, углубился в православие, принял постриг и вскоре стал
иеромонахом. В 30-м его расстреляли. Эта рана не заживала в душе
Валерии Дмитриевны: она любила и продолжала его любить. Встретив
Пришвина, она заново переживала и переосмысливала свое чувство к Олегу.
К мужу, с которым была в разводе.
 |
| Фотография М. М. Пришвина, которую он подарил В. Д. Лебедевой в одну из первых встреч, 25 января 1940 года |
В
день их первой встречи стоял лютый мороз. В Москве было минус 50, и
Валерия Дмитриевна, идя к Пришвину на первую деловую беседу, отморозила
ноги. Разговаривая с Михаилом Михайловичем и его помощником о
предстоящей работе, превозмогала жуткую боль. Но ей было не привыкать:
несколько лет она провела в сталинских лагерях.
Валерия
Дмитриевна была глубоко верующим и образованным человеком, окончила
Институт слова, одним из организаторов которого был известный философ
Иван Ильин, посещала лекции начинающего Лосева, Павла Флоренского,
прослушала курс философии и религии у Бердяева.
В ту первую
встречу они не произвели друг на друга никакого впечатления. Пришвин
сомневался в ней как в толковом работнике, не доверял (время было
непростое, а истории ее жизни он еще не знал). Однако она поразила его
своей глубиной, только осознал он это не сразу. В своем дневнике он
записал мысль и только спустя месяцы понял, что высказала ее его
любимая Ляля, а он тогда этого и не заметил.
«Подлинная любовь не
может быть безответной, и если все же бывает любовь неудачной, то это
бывает от недостатка внимания к тому, кого любишь. Подлинная любовь
прежде всего бывает внимательной, и от силы внимания зависит сближение».
Удивительное
созвучие и родство душ! Так откровенно, так полно ни он, ни она никогда
еще не высказывали себя другому человеку. Оба изголодались,
истосковались именно по таким отношениям — чистым, духовным, нежным и
бережным, внимательным.
«— Тебе приходит в голову, — сказала она
снова, — что земля — это мы или, вернее, в значительной мере это мы? А
люди смотрят на нее и не видят: земля и земля!
— Непременно мы, — ответил я. — Но ведь и все животные и все растения — это тоже мы.
— Может быть, и звезды? — спросила она, но я ничего не мог ей ответить».
 |
| В. Д. Лебедева. 1935 |
Неодетой
весной называет Пришвин то время, что предшествует скоротечному таянию
снегов, — время предпробуждения, предощущения будущего расцвета. Это и
было время «незаписанной любви» — единственная неделя в жизни Пришвина,
когда он не сделал ни одной записи в своем дневнике. Время взаимного
глубокого узнавания двух людей. Из насыщенной не внешними, но
внутренними событиями недели выросла настоящая любовь, взаимное
служение.
Они учились доверять, учились любить и понимали Любовь
не как взаимное притяжение, а как шанс обрести друг друга во всей
полноте, чтобы идти вместе, быть рядом в исследовании, в понимании
жизни, природы, мира, людей, самой Любви. Идти и одаривать этим
богатством и счастьем своим других людей — через искусство, творчество,
жизнетворчество.
Хотя оба были уже немолоды, они сумели сохранить
детскую чистоту проявления чувств. В Дунино, в их доме-музее, есть
деревянный пенал с ручками и карандашами, на котором ножичком
нацарапано трогательное: «Ляля + Миша = Л».
«Будьте как дети»
было любимой евангельской цитатой, руководством к действию у Валерии
Дмитриевны. «Сохранить свое детство — значит остаться бессмертным.
Человеку надо вернуть себе детство, и тогда ему вернется удивление, и с
удивлением вернется и сказка. Невозможно? Нет ничего невозможного», —
писал в своих дневниках Пришвин.
Они старались быть достойными
друг друга и того счастья, что подарила им судьба, старались видеть
друг в друге лучшее и за это лучшее сражаться, любя. «Тот человек, кого
ты любишь во мне, конечно, лучше меня: я не такой. Но ты люби, и я
постараюсь быть лучше себя».
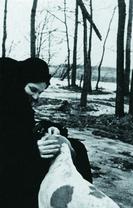 |
| Ляля с Ладой. Тяжино. Апрель, 1940 |
Ключиком,
которым они открывали друг друга, было «родственное внимание». Пришвин
вывел это понятие сам и жил с ним всю жизнь. Родственное внимание —
основа любви и основа творчества: только любя, можно постичь суть мира
и собственное предназначение, только любя, можно творить. Обращаясь к
неведомому читателю, Пришвин пишет: «Знаешь ли ты ту любовь, когда тебе
самому от нее ничего нет, ничего и не будет, а ты все-таки любишь через
это все вокруг себя, и ходишь по полю и лугу, и подбираешь красочно,
один к одному синие васильки, пахнущие медом, и голубые незабудки».
Они
прожили вместе счастливых 14 лет. 16 января 1954 года собирались
отметить знаменательную дату их встречи — «праздник отмороженной ноги»,
как в шутку они его именовали. Но на рассвете этого дня Михаила
Михайловича не стало…
«Любовь похожа на море, сверкающее цветами
небесными. Счастлив, кто приходит на берег и, очарованный, согласует
душу свою с величием всего моря. Тогда границы души бедного человека
расширяются до бесконечности, и бедный человек понимает тогда, что и
смерти нет… Не видно „того“ берега в море, и вовсе нет берегов у Любви.
Но другой приходит к Морю не с душой, а с кувшином и, зачерпнув,
приносит из всего моря только кувшин, и вода в кувшине бывает соленая и
негодная.
— Любовь — это обман, — говорит такой человек и больше не возвращается к морю».
Он
всегда искал, ждал того, кто придет и поймет его, его творчество, его
Поэзию — музыку, звучащую в душе в унисон с неслышной обычному уху
музыкой природы, ее дыханием. «Где ты, мой друг, за долами и за синими
морями? Или ты был у меня, и это я тебя зову из прошлого, или надеюсь
увидеть тебя в будущем? Как бы мне хотелось все свое тебе рассказать,
во всем с тобой посоветоваться».
 |
| «Иногда я думаю, глядя на Л., что она гораздо больше того, что я способен открыть в ее существе…» |
Ожидание
это не было окрашено тоской и горечью, оно было радостным — Пришвин
научился передавать музыку, звучание природы словом. И это стало
смыслом его творчества, смыслом его жизни. Он писал так, как
чувствовал, обращаясь к тому далекому и неведомому Другу, который, быть
может, когда-нибудь услышит и поймет его. Друг для него не только
близкий человек, встреченный на жизненном пути, но и неизвестный
далекий читатель, которому так же дорого все то, чем живет поэт-Пришвин.
Дорога
к Другу — работа не для себя, творчество не ради самовыражения, а ради
того, чтобы другие смогли увидеть и почувствовать жизнь, насладиться ее
красотой. «Я пишу для тех, кто чувствует поэзию пролетающих мгновений
повседневной жизни и страдает, что сам не в силах их схватить».
Дорога
Пришвина — это путь странника к миру. Путь истинного творца, который
стремится доступными ему средствами: своим талантом, чувством слова —
выразить и передать Красоту. «Когда навстречу прекрасному в природе
душа моя расширяется, я верю, что это прекрасное существует в мире само
по себе и я лишь просто принимаю его в себя». Его «родственное
внимание» — это попытка сознательного отношения ко всему, что
происходит, ко всему, что окружает, — ежечасно, ежесекундно. В одной
записи он сокрушается: почему нельзя жить сознательно, прожил день —
записал? Сам пытался жить именно так, и поэтому дневники писал в
предрассветный час, пока еще ничем не затуманилась утренняя ясность
ума, а события и переживания свежи, но смотришь на них уже чуть-чуть
отстраненно… Наверное, поэтому его Слово и сегодня живо, актуально.
Сердце отзывается на него, потому что говорит Пришвин о том, что
дорого, понятно и близко каждому, делится тем, что постиг сам. И в этой
неискаженной передаче притягательная сила его творчества. «Тайну
творчества надо искать в любви. Все мы помним, что когда кто из нас
влюблен, то, бывало, и все люди на свете хороши. Так и в творчестве
есть мысль — не мысль, что-то единое сердца, ума и воли… Сущность
творчества, его самый глубокий секрет состоит в том, чтобы находить в
себе и для всех эту мысль».














