Оксана Гришина
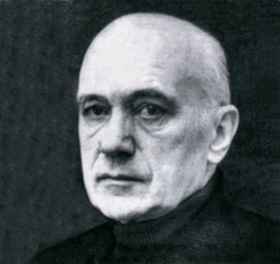 |
| Борис Раушенбах |
январь 1965 года. Голос Левитана звучал, как всегда, завораживающе
торжественно: «Работают все радиостанции Советского Союза! Передаём
сообщение ТАСС… В Советском Союзе произведён запуск на орбиту…
космического корабля «Восторг».
Корабль «Восторг» пилотируется
гражданином Советского Союза доктором технических наук, подполковником
запаса товарищем Раушенбахом Борисом Викторовичем. Задачами полета
являются: исследование работоспособности человека в нечеловеческих
условиях; исследование влияния на человеческий организм 16-часового
рабочего дня на этот раз в условиях невесомости... Самочувствие
товарища Раушенбаха невероятно хорошее!»
| Менее чем за 10 лет под его руководством были реализованы системы фотографирования обратной стороны Луны, системы ориентации и коррекции полета межпланетных автоматических станций «Марс», «Венера», «Зонд», спутников связи «Молния», автоматического и ручного управления космическими кораблями, пилотируемыми человеком. Значение этих систем не требует доказательств. Марк Галлай, летчик-испытатель, герой Советского Союза |
 |
| Он жил и работал увлеченно. Вовлекался в проекты. Но имел строго охраняемый внутренний мир. Его отличали жесткая самодисциплина, достоинство, уважительное отношение к другим. В то же время острое, проникновенное наблюдение за действительностью. А. И. Комеч, директор Института искусствознания |
от души все гости юбилейного банкета — наверное, половина всех строго
засекреченных «тружеников космической нивы» страны. И хотя «сообщение
ТАСС» записывал действительно сам Левитан, почти никто в это не
поверил. Шутка удалась, ведь в ней, как и положено, была доля правды.
За пять лет до этого полувекового юбилея Борис Викторович принимал
активное участие в подготовке первого полета человека в космос. Гагарин
во время полета в управление не вмешивался, его задача заключалась в
радиосвязи и медицинских экспериментах. Именно созданная под
руководством Раушенбаха и по его расчетам автоматическая система
ограничила инструкцию Гагарина по управлению кораблем, как шутили
потом, четырьмя словами: «Ничего не трогай руками».
Космос был
давней мечтой многих, и Раушенбах сыграл не последнюю роль в том отряде
первопроходцев, которому эту мечту удалось осуществить. Вообще быть
первым, поймать в работе уникальную тему Борису Викторовичу удавалось
всю жизнь. Когда он был студентом, на его первые научные статьи об
устойчивости самолетов ссылались маститые авторы вузовских учебников:
других работ на русском языке по этой теме не было. Позднее его
математические расчеты позволили увидеть обратную сторону Луны — это
была мечта астрономов еще XIX века, как им казалось, неосуществимая. И
с оправданной гордостью Раушенбах говорил: «Мы увидели ее первыми».
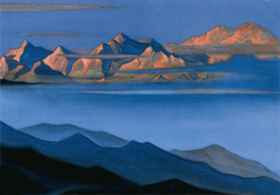 |
| «Искусство и искусствознание, вера и религия существуют вечно, и в человеке всегда живет и будет жить какое-то беспокойство, желание проникнуть как можно глубже в сущность всего этого». |
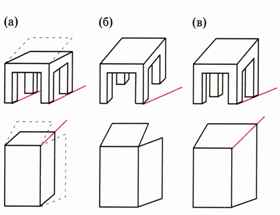 |
| Схема возникновения обратной перспективы, предложенная Раушенбахом. Аксонометрическое изображение (а), действие механизма константности формы (б), обратная перспектива (в). |
же ему помогало — капризный случай или логика судьбы? Может быть, дело
просто в хорошем знании математики? «После выхода из лагеря я знал
математику вполне прилично», — писал он. Звучит, по крайней мере,
неожиданно. Но военные годы, которые Борис Викторович провел в трудовом
лагере для русских немцев, действительно стали первой академией для
будущего академика.
Сначала ему удалось просто выжить при
30–40-градусном морозе под навесом без стен, когда вокруг умирали иной
раз по 10 человек в день. «Трудились на кирпичном заводе. Мне повезло,
что я не попал на лесоповал или на угольную шахту… Я уцелел случайно,
как случайно все на белом свете».
Но он не просто выжил. В игру
случайностей вступил его характер. В пересыльном пункте и в лагере на
нарах, на обрывках бумаги Раушенбах продолжил расчеты самонаводящегося
зенитного снаряда, которыми занимался накануне ареста в своем
эвакуированном Ракетном НИИ. Ему было неудобно, что он обещал сделать
работу и не окончил ее. На его расчеты обратил внимание авиаконструктор
и генерал Болховитинов. Он договорился с НКВД об использовании
заключенного в качестве расчетной силы. Это уже, скорее, логика судьбы.
Судьба помогала ему, как фея в сказке — доброму герою, просто потому,
что он — добрый и герой.
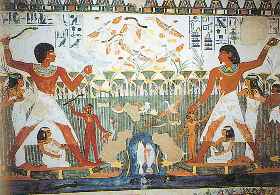 |
| «В Древнем Египте задачей художника было передать истинные, объективные формы изображаемых предметов и фигур, существующие независимо от наблюдателя, общие для всех людей. Возможно, это связано с тем, что в Древнем Египте еще не было того эгоцентризма, который возник позже. «Мы» было важнее «я»... |
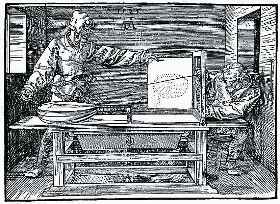 |
| В античном и средневековом искусстве отражен революционный переход от «мы» к «я»… насущной задачей стала передача на плоскости зрительного восприятия очень близких предметов конкретным человеком, стремящимся отразить личное отношение к увиденному...» В эпоху Возрождения и Великих географических открытий перешли «от передачи зрительного образа отдельного предмета к передаче пространства... В то время был открыт только один, простейший вариант из бесчисленного множества одинаково строго математически обоснованных возможных перспективных систем, к тому же не всегда наилучший. Но это было сделано впервые, это был результат работы смелых первопроходцев, открывших для изобразительного искусства новые горизонты». Из работы «Геометрия картины и зрительное восприятие» |
ко всем качествам этого удивительного человека, с детства влюбленного в
небо, хочется добавлять эпитет «сказочный». Надо обладать просто
сказочным умением мечтать, чтобы за колючей проволокой обдумывать в
подробностях космические полеты, которые осуществятся только через 20
лет! Борис Викторович и другие заключенные, привыкшие давать пищу уму и
сердцу, организовали в лагере Академию кирпичного завода. В свободное
время они собирались и делали сообщения по своей специальности. «Каждый
старался кто во что горазд, мы веселили друг друга всяческими
дискуссиями, упражняли ум».
Беседовали о тонкостях французской
литературы конца XVIII века, археологических раскопках на Урале, о его
минералогических богатствах. Раушенбах рассказывал о будущем
космической эры, «говорил обо всем серьезно, как профессионал
профессионалам». Зов неизведанного, знакомый мечтателям всех веков,
звучал в душе Бориса Викторовича всегда и выводил в поисках ответа на
возникший вопрос за пределы привычных, хорошо изученных им областей.
После многих лет плодотворного сотрудничества с Сергеем Павловичем
Королевым и Мстиславом Всеволодовичем Келдышем, имея степени и звания,
достигнув которых многие почивают на лаврах, Раушенбах всерьез занялся
искусствоведением. Произошло, как он вспоминал, «мягкое
перевоплощение». Оно началось с решения технической задачи для первых
пилотируемых полетов. Дело в том, что космонавты ничего не видели
впереди корабля и наблюдали картинку только на телеэкране. Но при
проекции на плоскость возникали искажения, мешавшие правильно
ориентироваться не меньше, чем невесомость и космическая темнота. И
Раушенбах углубился в теорию перспективы, а потом в искусство, в
частности в иконографию.
 |
| Иконописец должен был находить способы передачи глубоких богословских представлений художественными средствами, и Раушенбах доказал, что чертежные методы, использование геометрически противоречивых изображений и целенаправленная деформация передаваемых предметов были не только допустимы, но и просто необходимы для этого. Нельзя одновременно передать прямой и символический смысл, реальное и мистическое пространство методами, появившимися в эпоху Возрождения, когда «стали в основном черпать философское осмысление мира из книг, а не из картин, а созерцание перестало… рассматриваться как мощный метод познания мира». |
пришел к выводу, что глаз и мозг видят не одно и то же. Он сумел
математически описать работу мозга при восприятии пространственного
изображения и сформулировал закон сохранения ошибки в перспективе.
Снова не замечая междисциплинарных границ, Раушенбах перешел из
оптической области исследования механизмов зрения в область психологии
восприятия. Художник изображает без искажений то, что для него важнее.
А видение художника отражает мировосприятие, присущее эпохе и народу в
целом. Такой подход позволил Раушенбаху увидеть переход от «мы» к «я» —
индивидуализацию человеческого сознания со времен Древнего Египта до
наших дней.
В понимании Бориса Викторовича история развития
методов пространственных построений в изобразительном искусстве
«выглядит не длинной дорогой к единственной вершине, а последовательным
покорением разных вершин». Перед мастерами разных эпох стояли разные
задачи, которые и решались разными способами. По мнению Раушенбаха, эти
способы были каждый раз оптимальными. Поэтому нельзя сравнивать
достижения разных цивилизаций по шкале «хуже — лучше».
Такая
«полифоническая» логика единства, увидев с новой высоты старые
достижения, не объявляет их примитивными. Она не противопоставляет друг
другу формы, в которых воплощалось понимание людьми мира в разные
эпохи, а позволяет увидеть проявляющийся в них единый закон. Раушенбах
всей своей жизнью не просто доказывал «теорему единства мира». Он
призывал увидеть это единство не в одинаковости составных частей, а в
гармоничном созвучии разных смыслов, целей, задач.
Эта
логическая линия у Бориса Викторовича подкреплялась эмоционально тем,
что, по его словам, он всегда болел за слабую команду. В 1996 году на
одной конференции, когда «все уже взахлеб полюбили формалистическое
искусство», Раушенбах иронично отнесся к очередной моде и явно
симпатизировал классической перспективе со всеми ее ограничениями,
которые он же и выявил.
Та же потребность защищать гонимого,
видимо, сыграла не последнюю роль в отношении Бориса Викторовича к
религии во времена государственного атеизма. Годы, проведенные за
колючей проволокой, казалось бы, могли выработать у него осторожность в
проявлении своих убеждений в словах и поступках, но нежелание идти на
компромиссы с «внутренним голосом» как будто только окрепло в
испытаниях. В 1987 году, когда редакция журнала «Коммунист» предложила
ему написать о военной космической программе США, Борис Викторович не
побоялся сказать: «Чушь, не об этом надо писать», а о тысячелетии
крещения Руси. После этой его скандальной статьи начали появляться
сочувственные публикации о Церкви, а ему самому даже довелось прочитать
доклад о крещении Руси на сессии ЮНЕСКО в Париже. А еще задолго до
этого «перестроечного» прорыва Раушенбах осмеливался демонстрировать
свое несогласие с «воинствующими атеистами» на приемах в Кремлевском
Дворце, посвященных очередным успешным космическим запускам. Там
священники, приглашенные напоказ для зарубежных СМИ, оказывались как бы
в «санитарной зоне». Он подходил и беседовал с ними, но не только из
чувства протеста против «карантина»: его всерьез интересовала религия.
Ведь он считал, что она отвечает на вопросы, на которые не может
ответить наука.
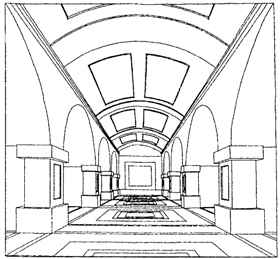 |
| Условный интерьер, показанный по правилам ренессансной системы перспективы. Соотношение между высотой и шириной интерьера всюду правильное. Сильнейшее увеличение переднего и почти карикатурное уменьшение дальнего плана |
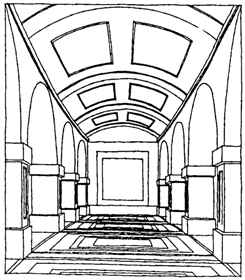 |
| За счет некоторого искажения передачи глубины улучшена передача вертикалей |
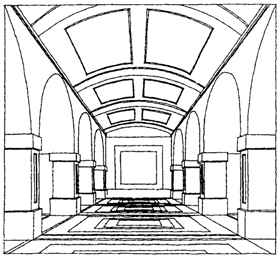 |
| Вариант перцептивной системы перспективы, в котором главным является безупречная передача вертикальных плоскостей (стен). Основные ошибки - увеличение ширин |
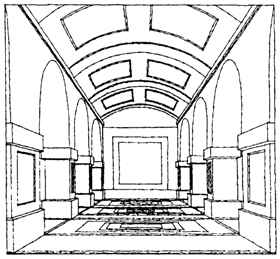 |
| Ширина пола и вертикальные структуры (высота арок и т. п.) переданы безупречно, однако передача глубины предельно искажена, пространство сильно сжато. |
— Раушенбах стремился к профессионализму во всем, чем занимался. Он не
хотел, чтобы его лекции для студентов физтеха и печатные труды по
иконописи были безграмотны в отношении богословия. Его статья «О логике
триединости», опубликованная в журнале «Вопросы философии» в 1990 году,
до сих пор вызывает живой интерес и споры. В ней с позиций
математической логики Борис Викторович доказал непротиворечивость
догмата о триединстве. Для этого он нашел в математике объект,
обладающий всеми логическими свойствами Троицы, — обычный вектор с его
тремя ортогональными составляющими. Раушенбах ясно понимал, что логика
далеко не самое главное в этом образе, а просто пытался защитить его от
нападок «скептиков и атеистов, переводящих проблему из области
богословия в область формальной логики». Но и сейчас не утихает
критика, утверждающая, что идея статьи «не более чем занятная и
элегантная, но игрушка».
Для Раушенбаха это не было игрой, и его
ощущение единства касалось не только Троицы, а всего мира в целом. Да,
в богословии, как и в искусствоведении, он занимался прежде всего
логической стороной. Но логика была только инструментом в поисках так
необходимого нам всем для выживания сокровища — взаимопонимания.
Раушенбах
понимал, что и наука, и искусство, и религия говорят об одном и том же,
но только на разных языках. Немало трудов надо приложить, чтобы люди
вновь обрели единый язык, которым, по легенде, владели до Вавилонского
столпотворения. И Борис Викторович трудился — всегда, несмотря на
состояние здоровья и многочисленные обязанности, которые уже лежали на
его плечах и которые, кажется, не под силу было нести одному человеку.
Утверждая приоритет культуры, «единственно способной противостоять
разрушителям и объединить человечество», он являлся председателем
Научного совета РАН «История мировой культуры», членом Президиума
Всероссийского общества охраны памятников, инициатором и вдохновителем
создания Ассоциации колокольного звона, а также возглавлял Лигу защиты
культуры, основанную в свое время Николаем Рерихом. Будучи избранным в
Международную академию астронавтики, академик РАН Раушенбах являлся
также членом Президиума Научного совета по истории религии, автором
многих трудов по богословию, словно иллюстрируя примитивность довода «В
космос летали — Бога не видели» и доказывая искусственность
противопоставления науки и религии. Объединительной миссии Раушенбаха
служило также его неоднократное участие в конференции в Суздале «Языки
науки — языки искусства». Сам он специально работал над своим языком,
чтобы стать понятным именно той аудитории, с которой общался.
 |
| Борис Раушенбах в центре |
его лекции, прочитанные многим поколениям студентов МФТИ в течение всей
его жизни (по созданным им самим фундаментальным курсам по газовой
динамике, гироскопии, теории регулирования, управлению движением,
динамике космического полета), отличаются живостью и простотой
изложения. Молодым лекторам он советовал при чтении лекций не делать
вид, что ты умнее слушателей, говорить не «ученым», а образным языком,
«языком художников». Наверное, и благодаря владению Бориса Викторовича
таким языком особенно большую аудиторию собирали в физтехе его лекции
по искусству, религии, истории науки. Он передал эстафету идущим за ним
— его ум и сердце помогли вырасти не одному поколению инженеров и
ученых, а стипендия им. Раушенбаха дает возможность использовать свой
интеллект, свои знания в России и на ее благо «студентам российских
государственных университетов, которые добились значительных
результатов в научной работе, применяя методы естественных и точных
наук в науках гуманитарных».
Борис Викторович через всю жизнь
пронес настоящее рыцарское чувство — ответственность за все
происходящее. Она проявилась в молодости, когда он продолжал расчеты за
колючей проволокой. Не оставила она его и на закате жизни, когда,
находясь в состоянии клинической смерти, он «выбрал возвращение, чтобы
доиграть игру». Осознание неустойчивости и хрупкости нашего
несовершенного мира и ответственность за его судьбу, возможно, вели
Раушенбаха в его фундаментальных исследованиях по анализу развития
оборонно-наступательных систем звездных войн (СОИ). Их результат
доказал бесперспективность этого вида вооружений и помог избежать
непоправимых последствий.
Для личности такого масштаба
закономерно простое и ироничное отношение к себе. Хорошо знавшая его
журналист Зоя Евгеньевна Журавлева писала о Борисе Викторовиче: «Он
естественно к самому себе относился. Как лист, как облако, как
можжевельник. Ну, расту, ну, цвету, ну, мотаюсь по небу до одури, ну
ветку вчера обломал. Такая природная естественность. “Я вообще,
серьезных книг и по специальности много прочесть не могу… Я потому и
любил тем заниматься, чем человек не больше пяти до меня занималось.
Проще. Читать не надо. Можно придумать самому”. И, как мы знаем,
придумывал».














